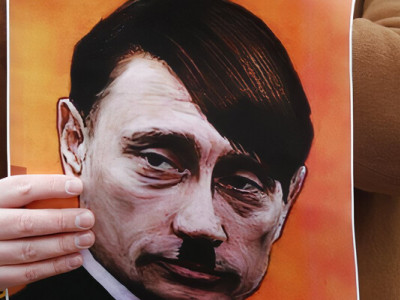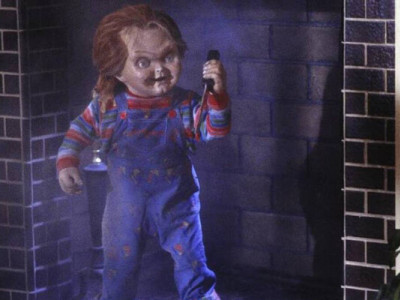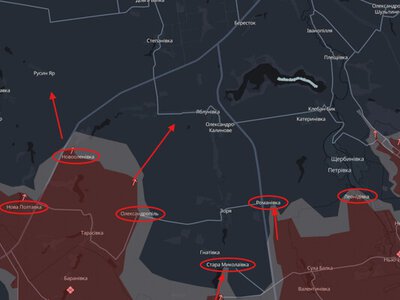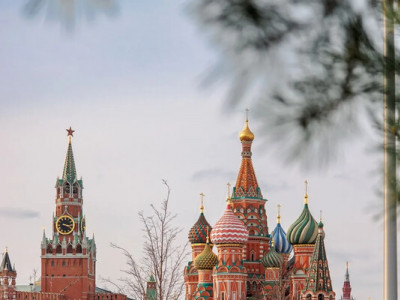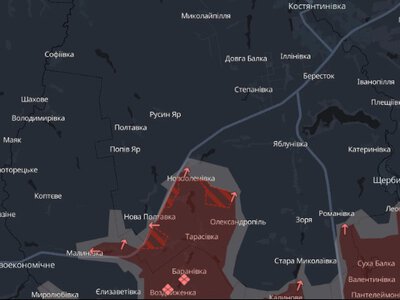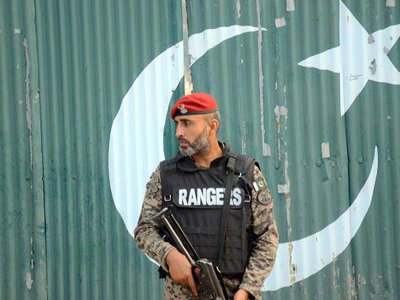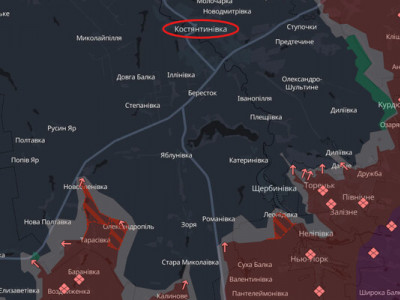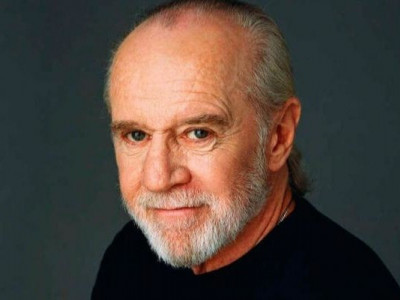Память. Потери. Коллаборантство. Разговор о мифах и стереотипах Второй мировой

Победа над Гитлером превратилась у сегодняшней российской пропаганды в "миф основания". Трагедию войны со всеми сложными обстоятельствами стремятся свести к одному дню – празднику Победы. Историк Олег Будницкий старается вернуть войне человеческое измерение.
Иван Толстой: Олег Витальевич, чего больше о Великой Отечественной войне – мифов или правдивых историй?
Олег Будницкий: Это вопрос, на который не существует правильного ответа. Это вполне естественно, поскольку каждое последующее поколение, да и люди одного поколения, интересуются разными сюжетами, разными аспектами истории войны. Насколько они могут найти эти ответы, зависит от того, насколько мы изучили историю войны. Изучаем мы ее по-разному, у историков тоже есть разные интересы, разные задачи.
Скажем, длительное время задачей было изучение сугубо военных аспектов – история сражений, военных операций, снабжения, и так далее. Сейчас все большее внимание привлекает социальная история войны, история людей на войне, историческая антропология, как люди жили в тылу и на фронте, их повседневная жизнь, психология, мировосприятие. То есть в войне очень много различных аспектов.
Иван Толстой: Казалось бы, в истории сражений априорно должно быть меньше мифов – это же вещи проверяемые, измеряемые. А вот история людей, по идее, должна нас ввести в область мифов.
Олег Будницкий: Это зависит от того, насколько научные методы применяются при изучении истории. Если вы ориентируетесь не на процесс изучения, а на заранее известный конечный результат, тогда мифов больше. Кроме того, вы заблуждаетесь, если думаете, что мифологии по чисто военным аспектам истории войны должно быть по определению меньше – ее больше на самом деле. Что далеко ходить: известная, всеми постоянно обсуждаемая и спорная ситуация с военными потерями – как трансформировалось наше знание о потерях, понесенных Красной армией и вообще советскими людьми во время войны.
Напомню, что Сталин после войны озвучил цифру 7 миллионов человек. Во времена Хрущева была названа цифра 20 миллионов, во время перестройки – около 27 миллионов погибших. Я говорю не о достижениях историков, а о том, что сказал генеральный секретарь Коммунистической партии. Потому что право на знание, точнее, на оглашение того, что считалось правильным и целесообразным, принадлежало власти, а не историкам.
Впервые книга о советских потерях во время войны была опубликована в 1993 году. Можете себе представить, сколько времени прошло после войны, когда впервые книга с характерным названием "Гриф секретности снят" была опубликована военными историками. Книга подверглась существенной критике, дебаты по поводу истинного размера потерь ведутся до сих пор, называются самые разные цифры. По крайней мере, была дана некоторая основа на основании материалов Генерального штаба и Министерства обороны. Вот вам, пожалуйста, военная история.
Ведь вопрос о потерях – это обязательный элемент военной истории, и этот основополагающий аспект был мифологизирован столько лет. А если вы посмотрите на то, что писали и говорили, и продолжают говорить о потерях противника, то эта мифология вырастает в кубе.
Иван Толстой: Поясните, пожалуйста.
Олег Будницкий: В ходе войны – это понятно, это вопрос не истории, а пропаганды. После войны назывались совершенно фантастические цифры, касающиеся потерь Вермахта. Например, Сталин в известной своей речи 6 ноября 1941 года по случаю годовщины Октябрьской революции сказал, что Германия уже потеряла больше четырех миллионов человек и что вообще победа не за горами, крах Вермахта. Эти цифры продолжали называться и далее и сначала некритически перекочевывали в труды историков, потом, конечно, они редактировались. Это продолжалось длительное время. Вот вам, пожалуйста, то, что, казалось бы, подлежит арифметическому подсчету.
Иван Толстой: Кстати, а сейчас историки останавливаются на какой цифре потерь Вермахта?
Олег Будницкий: Тут надо смотреть не то, что пишут российские историки, а то, что пишут немецкие. У них, видимо, более точные подсчеты. Если говорить о сугубо военных потерях, речь идет о примерно шести миллионах человек.
Иван Толстой: Существуют западные цифры о советских потерях?
Олег Будницкий: Вышел целый ряд работ, в том числе фундаментальный трехтомный труд по населению России в ХХ веке, академический, множество выходило работ на эту тему. В основе эти цифры особому сомнению не подвергаются. Есть, конечно, люди, которые говорят, что погибло 40 миллионов человек. Но вы знаете, чтобы потерять такое количество людей, нужно иметь определенное население до войны. Демография – это относительно точная наука. Общие цифры демографических потерь понятны – это приблизительно 26 миллионов и чуть меньше 700 тысяч человек, то есть около 27 миллионов, обычно мы округляем в ту сторону.
Так вот, что здесь подвергается критике и сомнению, и с этим согласны, видимо, те люди, которые работали с материалами Генштаба и Министерства обороны, это то, что названная изначально цифра военных потерь, я имею в виду убитыми и умершими от ран, 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, эта цифра, видимо, занижена. Потому что здесь шли по формальному критерию, скажем, зачислены ли эти люди в воинские части. Например, 500 тысяч человек призвали буквально накануне войны, какие-то из этих людей успели в свои части прийти, какие-то не успели, но пришел или не пришел, их не успели оформить, и на этом основании их приписали к потерям гражданского населения, хотя львиная доля людей прибыла в свои части. И те потери, которые относятся к этому полумиллиону, они должны быть по всем понятиям отнесены к военным потерям.
Так же существенно расходятся, например, советские и немецкие цифры по военнопленным. Потому что советско-российские историки считали тех, кто числился по документам в составе Красной армии и военно-морского флота, но ведь сражались не только те, кто формально числился, например, добровольческие части, которые не успели оформить, милиция местная, части НКВД и так далее. Целый ряд людей, которые с оружием в руках воевали, но формально не относились к армии, их не относят к числу военных потерь, поэтому расхождения данных по пленным советских и немецких, они очень существенны.
При этом немецкие данные более надежные, с моей точки зрения, потому что у них реально люди были в лагерях, они знали, сколько их, независимо от того, был ли у них военный билет или красноармейская книжка, или эту красноармейскую книжку не успели выдать. Скажем, по киевской операции, согласно российским данным, потери превышали 450 тысяч человек, а немцы считают, что они захватили в плен более 600 тысяч человек. Такие расхождения, и это по многим аспектам.
Более того, сейчас опубликована из президентского архива переписка Сталина и высших советских политических и военных руководителей военного времени, там приведены текущие данные о потерях, которые докладывались. Невооруженным глазом при первом же просмотре видно, что эти данные и те данные, к которым в итоге пришли военные историки, существенно различаются. Предстоит большая работа, чтобы понять, какие из них более достоверны, провести такую работу по подсчету и по идентификации лично каждого из погибших.
Могу привести еще один момент, когда Книги памяти составлялись по различным регионам России и бывшего Советского Союза, и там опять-таки получалось – данные о потерях выше, чем те, которые приведены в книге "Гриф секретности снят" и в ее последующих переизданиях. Просто на местах, что называется, люди лучше знали, кто из их родственников пошел воевать и не вернулся. А ведь бывали такие случаи (их немало), когда люди нигде, ни в чем не значатся, даже в списках пропавших без вести их нет. Я говорю не о единичных, не о сотнях, а о тысячах случаев такого рода.
Поэтому, говоря о демографических потерях, я полагаю, эта цифра верна, эта чудовищная цифра, близкая к 27 миллионам, но если мы говорим о потерях военных, о потерях армии и флота, то эта цифра, с моей точки зрения, не окончательная, и над этим предстоит еще работать и работать.
Иван Толстой: Я хотел бы перейти с вами к истории людей и к мифам именно в этой части. Каковы тут самые главные мифы, на ваш взгляд?
Олег Будницкий: Я бы говорил, наверное, не о мифах, а о стереотипах. Была такая советская формула, почему мы победили: это преимущества социалистического строя, руководство Коммунистической партии, единство советского народа, дружба и братство народов СССР и так далее. Те, кто учился в советской школе, хорошо помнят эти формулы, которые повторялись постоянно. Изучение истории показывает, что во многом это не соответствовало действительности.
Скажем, "дружба и братство народов Советского Союза". По-разному разные народы или люди, принадлежавшие к некоторым народам, вели себя во время войны по отношению к советской власти и к понятию родины. Это касается прежде всего территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-40 годах. Когда мы читаем документы, ставшие сейчас доступными, что мы видим? Например, что народы Балтии совершенно не рвались защищать в большинстве своем новообретенную советскую социалистическую родину, более того, приветствовали нацистов как освободителей. Кто-то писал из последующих историков, что советская власть умудрилась за год сделать, казалось, невозможное – заставить прибалтов с симпатией относиться к немцам, а ведь это же были враги, угнетатели. Бароны, которые были господствующим слоем в этом регионе, которых в период независимости отодвигали и которые в больших количествах уезжали в Германию еще до вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза. Во многом это (нежелание защищать СССР – РС) относилось и к Украине, ее западной части.
В чем была особенность? В том, что на этих территориях советизация прошла очень быстро и очень жестко. То, что основные советские территории этот период прошли с 1920-х годов до конца 1930-х, в Балтии произошло в течение чуть более чем года. Это не создало советской власти большого количества друзей. Например, когда мы читаем по документам, что происходило с некоторыми армиями, с некоторы
- Последние
- Популярные
- Май, 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Май, 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Новости по дням
1 июня 2025